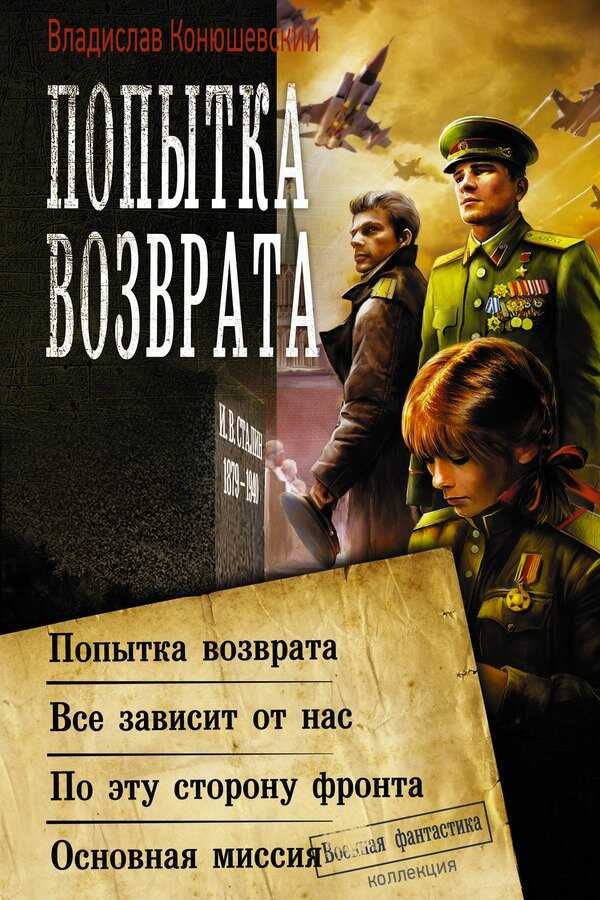Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Книга жизни» – так называется один из рассказов, точно определивший содержание книги. Жизнь наших современников представлена в ней во всей полноте и не оставит равнодушным читателей любого возраста.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владислав Иванович Авдеев»:
![Книга жизни [сборник] - Владислав Иванович Авдеев](/uploads/posts/books/16365/16365.jpg)